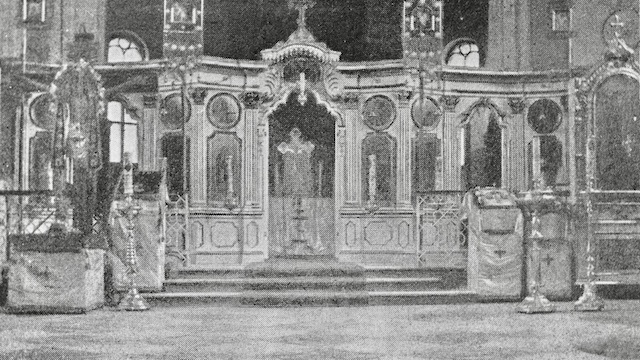Преподобномученица Феврония дева
Преподобномученица Феврония дева пострадала в царствование Диоклитиана (284–305). Она воспитывалась в монастыре в городе Сиваполе (Ассирийская область). Настоятельницей обители была игумения Вриенна, тетка святой Февронии. Игумения, заботясь о спасении святой Февронии, назначила ей более строгий образ жизни, чем остальным инокиням. По уставу обители по пятницам сестры оставляли свои послушания и весь день проводили в молитве и чтении Священного Писания. Обычно игумения поручала чтение святой Февронии...
Преподобномученица Феврония дева пострадала в царствование Диоклитиана (284–305). Она воспитывалась в монастыре в городе Сиваполе (Ассирийская область). Настоятельницей обители была игумения Вриенна, тетка святой Февронии. Игумения, заботясь о спасении святой Февронии, назначила ей более строгий образ жизни, чем остальным инокиням. По уставу обители по пятницам сестры оставляли свои послушания и весь день проводили в молитве и чтении Священного Писания. Обычно игумения поручала чтение святой Февронии.
Слава о ее благочестивой жизни распространилась по городу. Знатная молодая вдова Иерия, язычница, стала посещать святую Февронию. Под влиянием ее наставлений и молитв она приняла святое Крещение и привела к Христовой вере своих родителей и родственников.
Диоклитиан направил в Ассирию для истребления христиан отряд воинов во главе с Лисимахом, Селином и Примом. Селин, дядя Лисимаха, отличался жестокостью в отношении христиан, а Лисимах был расположен к ним, так как его мать старалась внушить сыну любовь к христианской вере и умерла христианкой. Лисимах договорился со своим родственником Примом по мере возможности избавлять христиан от рук мучителей. Когда отряд воинов приблизился к обители, насельницы скрылись. В монастыре остались только игумения Вриенна, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Игумения сильно скорбела, что ее племянница попадет в руки мучителей, которые могли надругаться над ней, и горячо молилась, чтобы Господь сохранил ее и укрепил в исповедании Христа Спасителя. Селин приказал привести к нему всех инокинь обители. Прим с отрядом воинов не нашел никого, кроме двух стариц и святой Февронии. Он сожалел, что и они не скрылись, и предложил инокиням уйти. Но инокини решили не покидать места своих подвигов и положиться на волю Господню.
Прим рассказал Лисимаху о необыкновенной красоте святой Февронии и советовал взять ее себе в жены. Лисимах ответил, что не желает соблазнять дев, посвященных Богу, и просил Прима укрыть где-нибудь оставшихся инокинь, чтобы они не попали в руки Селина. Один из солдат подслушал разговор и донес Селину. Святую Февронию со связанными руками и цепью на шее привели к военачальнику. Селин предложил ей отказаться от веры во Христа и принести жертву языческим богам, он обещал почести, награды и брак с Лисимахом. Святая дева твердо и неустрашимо ответила, что имеет Бессмертного Жениха и не променяет Его ни на какие земные блага. Селин подверг ее жестоким мукам. Святая молились: «Спаситель мой, не покинь меня в этот страшный час!» Мученицу долго били, кровь ручьями текла из ран. Чтобы увеличить страдания святой Февронии, ее повесили на дереве и разожгли под ней огонь. Мучения были так бесчеловечны, что народ стал криком требовать прекращения истязания ни в чем не повинной девушки. Но Селин продолжал издеваться и насмехаться над мученицей. Святая Феврония молчала. От слабости она не могла говорить ни слова. В ярости Селин приказал вырвать ей язык, выбить зубы, отрезать груди и, наконец, отсечь обе руки и ноги. Люди не выносили ужасного зрелища и уходили с места мучения, проклиная Диоклитиана и его богов.
Среди толпы присутствовала инокиня Фомаида, которая впоследствии подробно описала мученический подвиг святой Февронии, и ученица святой девы Иерия. Она вышла из толпы и во всеуслышание укоряла Селина за безмерную жестокость. Он приказал схватить ее, но, узнав, что Иерию как знатную женщину небезопасно подвергать истязаниям, оставил ее, сказав: «Своими речами ты навлекаешь на Февронию еще большие муки». Наконец, святой мученице Февронии отсекли голову.
Уходя с места казни, Лисимах плакал и затворился в своем помещении. Селин собирался обедать, но не мог принять пищи и ходил по покоям своего дворца. Внезапно, посмотрев вверх, он вдруг лишился языка, замычал подобно волу, упал и, ударившись о мраморную колонну, разбил себе голову и тут же умер. Когда Лисимах узнал о происшедшем, то произнес: «Велик Бог христианский, Он достоин почитания, потому что отомстил за неповинную кровь!» Он приготовил ковчег, вложил в него рассеченное тело мученицы и отнес в монастырь. Игумения Вриенна упала без чувств, увидев изуродованные останки святой Февронии. К вечеру она пришла в чувство и повелела открыть монастырские ворота, чтобы все могли прийти поклониться святой мученице и прославить Бога, даровавшего ей такое терпение в страданиях за Христа Спасителя. Лисимах и Прим тогда же отреклись от идолопоклонства, приняли Крещение и иночество. Иерия передала свое богатство в монастырь и просила игумению Вриенну принять ее в обитель вместо святой Февронии.
Ежегодно, в день мученический кончины святой Февронии, в обители совершалось торжество. Во время всенощного бдения сестры обители всегда видели святую Февронию, которая занимала свое обычное место в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой.
В 363 году мощи святой Февронии были перенесены в Константинополь.
Вскоре после кончины святой Февронии святой Иаков, епископ Низибийский (память 13 января), создал церковь и перенес в нее частицу мощей святой мученицы.
Подробнее...
Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские чудотворцы
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней пос...
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе с святой Февронией.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.
Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества.
Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступающих в брак.
Подробнее...
Преподобный Никон Оптинский, исповедник
Преподобный Оптинский старец Никон, исповедник (в миру Николай Митрофанович Беляев), родился 26 сентября 1888 года в Москве. Его детство прошло в большой и дружной купеческой семье. От родителей он унаследовал любовь к Церкви, чистоту и строгость нрава. С годами у Николая и его младшего брата Ивана возникло и укрепилось сознательное стремление к духовной жизни. Они решили уйти в монастырь, но не знали, в какой. Изрезали на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянули полоску, на которой было написано: «Козельская Введенская Оптина пустынь»...
Преподобный Оптинский старец Никон, исповедник (в миру Николай Митрофанович Беляев), родился 26 сентября 1888 года в Москве. Его детство прошло в большой и дружной купеческой семье. От родителей он унаследовал любовь к Церкви, чистоту и строгость нрава. С годами у Николая и его младшего брата Ивана возникло и укрепилось сознательное стремление к духовной жизни. Они решили уйти в монастырь, но не знали, в какой. Изрезали на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянули полоску, на которой было написано: «Козельская Введенская Оптина пустынь».
Дома не препятствовали благому решению, и 24 февраля 1907 года, в день обретения главы Иоанна Предтечи, братья приехали в Оптину. Их обоих с любовью принял преподобный старец Варсонофий, но как-то особенно отметил Николая. С первых же бесед они почувствовали необъяснимую тесную связь друг с другом, то, что называется «духовным родством».
9 декабря 1907 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», братья Беляевы были приняты в число скитской братии. В октябре 1908 года брат Николай был назначен письмоводителем старца Варсонофия и освобожден от всех послушаний, кроме церковного пения и чтения. К этому времени он становится самым близким учеником и сотаинником старца Варсонофия, который, провидя его высокое предназначение, готовил его в свои преемники, передавая ему свой духовный и жизненный опыт, руководил его духовной жизнью.
В апреле 1910 года Николай был пострижен в рясофор, а 24 мая 1915 года — в мантию. Он получил имя Никон в честь святого мученика Никона (память 28 сентября). 10 апреля 1916 года преподобный Никон был рукоположен во иеродиакона, а 3 ноября 1917 года удостоился сана иеромонаха.
После октябрьского переворота Оптина была закрыта, начались гонения. «Умру, но не уйду» — так писал преподобный Никон в своем дневнике, будучи еще послушником монастыря. Эти слова выражали общее настроение оптинской братии. Трудоспособные монахи создали «сельскохозяйственную артель», дававшую пропитание. Именно тогда преподобный Никон ревностно трудился, делая все, что только возможно, чтобы сохранить монастырь. В Оптиной было тяжело, но служба в храмах продолжалась. Первый раз его арестовали 17 сентября 1919 года. Летом 1923 года монастырь был окончательно закрыт; братию, кроме двадцати рабочих при музее, выгнали на улицу. Настоятель преподобный Исаакий, отслужив последнюю соборную литургию в Казанском храме, передал ключи от него преподобному Никону, благословил служить и принимать богомольцев на исповедь. Так преподобный Никон за святое послушание настоятелю стал последним Оптинским старцем. Тогда же находившийся в ссылке преподобный Нектарий стал направлять своих духовных чад к преподобному Никону. До этого преподобный Никон не дерзал давать советы обращавшимся к нему, а когда начал принимать народ, то, давая советы, всегда ссылался на слова Оптинских старцев. Изгнанный из обители в июне 1924 года, он поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ, выполняя свой пастырский долг. В те страшные годы верные чада Церкви особенно нуждались в укреплении и утешении, и именно такой духовной опорой был преподобный Никон. Его арестовали в июне 1927 года вместе с отцом Кириллом (Зленко). Три страшных года провел преподобный Никон в лагере «Кемперпункт».
По окончании срока его приговорили к ссылке в Архангельскую область. Перед отправкой врач нашел у преподобного Никона тяжелую форму туберкулеза легких и посоветовал просить о перемене места ссылки. Привыкший все делать за послушание, преподобный Никон попросил совета у отца Агапита, сосланного вместе с ним. Тот посоветовал не противиться Божией воле, и преподобный Никон смирился.
3/16 августа 1930 года его «переместили» из Архангельска в город Пинегу. Больной, он долго скитался в поисках жилья, пока не договорился с жительницей села Воепола. Кроме высокой платы, она требовала, чтобы батюшка, как батрак, выполнял все тяжелые физические работы. Состояние здоровья преподобного Никона ухудшалось с каждым днем, он недоедал. Однажды от непосильного труда он не смог встать. И тогда хозяйка стала гнать его из дому.
Отец Петр (Драчев), тоже ссыльный оптинец, перевез умирающего к себе в соседнюю деревню и там ухаживал за ним. Физические страдания не омрачили духа верного раба Божия: погруженный в молитву, он сиял неземной радостью и светом. В последние месяцы своей болезни он почти ежедневно причащался Святых Христовых Таин. В самый день его блаженной кончины, 25 июня/8 июля 1931 года, он причастился, прослушал канон на исход души. Лицо почившего было необыкновенно белое, светлое, улыбающееся чему-то радостно. Промыслом Божиим на погребение блаженнопочившего старца преподобного Никона одних священнослужителей собралось двенадцать человек. Он был отпет и погребен по монашескому чину на кладбище села Валдокурье. Господь, даровав Своему верному слуге мирную кончину, и по преставлении почтил его соответствующим его сану и заслугам погребением.
Память о нем жива в душах любящих и помнящих его. В день блаженной кончины преподобного отца нашего Никона оптинские насельники начиная с 8 июля 1989 года служат панихиды на месте его упокоения на кладбище на Валдокурье. Жизнь праведных начинается по их кончине…
Подробнее...
Преподобноисповедник Никон (Беляев)
Преподобноисповедник Никон родился 26 сентября 1888 года в Москве в семье Митрофана Николаевича и Веры Лаврентьевны Беляевых и в крещении был наречен Николаем.
Дед Николая по матери, Лаврентий Иванович Швецов, был круглым сиротой. Его подобрал на улице некий небольшого достатка купец и определил работать в своей лавке на Балчуге в Москве. Купец был человеком одиноким и, видя исключительную религиозность и добросовестность Лаврентия, завещал ему свою торговлю. Дела у Лаврентия Ивановича пошли успешно, и в конце концов он стал владельце...
Преподобноисповедник Никон родился 26 сентября 1888 года в Москве в семье Митрофана Николаевича и Веры Лаврентьевны Беляевых и в крещении был наречен Николаем.
Дед Николая по матери, Лаврентий Иванович Швецов, был круглым сиротой. Его подобрал на улице некий небольшого достатка купец и определил работать в своей лавке на Балчуге в Москве. Купец был человеком одиноким и, видя исключительную религиозность и добросовестность Лаврентия, завещал ему свою торговлю. Дела у Лаврентия Ивановича пошли успешно, и в конце концов он стал владельцем трех лавок. Занимаясь всю жизнь торговлей, он говорил и любил повторять: «Чужая копейка, внесенная в дом, как пожар, сожжет его», что неправильно говорят: не обманешь – не продашь: «Я за всю мою жизнь никогда никого не обманул ни разу, а дело мое шло всегда лучше, чем у других». Лаврентий Иванович любил посещать церковь Божию, и сам иногда пел на клиросе. В течение тридцати трех лет он был старостой церкви святых равноапостольных Константина и Елены в Кремле, в которой находилась чудотворная икона Божией Матери «Нечаянная Радость». Церковь была изрядно повреждена французами во время нашествия Наполеона, и Лаврентий Иванович принял большое участие в ее восстановлении. Он сподобился тихой и мирной христианской кончины: в 12 часов дня он приобщился Святых Христовых Таин и к вечеру отошел ко Господу.
Отец Николая, Митрофан Николаевич Беляев, был выходцем из семьи крестьян Воронежской губернии. Из четырнадцати детей он был младшим. Семья была бедной, и Митрофан Николаевич ушел пешком на заработки в Москву и устроился рабочим при магазине «Мюр и Мерилиз». Отличаясь большими способностями и трудолюбием, он вскоре стал продавцом, а затем заведующим мануфактурным отделом. Пленяясь внешним успехом, он мало заботился о своем характере и нраве, которые с удачей все более портились, и в конце концов он рассорился с хозяином и открыл свое дело. Все пошло поначалу успешно, но бывший хозяин оказал противодействие его делу и добился того, что Митрофан Николаевич разорился. Он женился на вдове, у которой было две дочери, но она вскоре скончалась, и Митрофан Николаевич женился на Вере Лаврентьевне Швецовой. Венчались они в церкви Большое Вознесение у Никитских ворот. У них родилось восемь детей – две дочери и шесть сыновей. Впоследствии Митрофан Николаевич стал служить у Лаврентия Ивановича, и вся семья переехала к нему жить на Большую Ордынку.
Семья Беляевых имела благочестивые устремления, но, как и многие в то время городские семьи, не понимала важности церковной жизни, не придавала значения постам, не имела представления о духовной литературе и вообще о том, что кроме внешнего соблюдения обрядов столь же важно для человека внимание к своему внутреннему духовному миру, который требует о себе попечения даже значительно большего, чем попечение о плоти. Митрофан Николаевич, по воспоминаниям сына Ивана, «церковь... любил. Но он любил ее так, как большинство мирян того времени. Он не вникал в глубину христианского вероучения. Ходил во храм все праздники, наслаждаясь пением и диаконскими голосами».
Когда Николаю исполнилось пять лет, он тяжело заболел и лежал уже бездыханен, посинел и даже похолодел, так что отец уже думал, что он умер, но мать не теряла надежды, растирала его мазью и горячо молилась святителю Николаю Чудотворцу о даровании сыну жизни. И совершилось чудо: болезнь остановила свое течение, и Николай выздоровел. Впоследствии оптинский старец, игумен Варсонофий, так сказал ему о происшедшем: «Конечно, это из ряда вон выходящий случай. Собственно, не случай, ибо все происходит с нами целесообразно... Вам была дарована жизнь. Ваша мама молилась, и святитель Николай Чудотворец молился за вас, а Господь, как Всеведущий, знал, что вы поступите в монастырь, и дал вам жизнь. И верьте, что до конца жизни пребудете монахом...»
Николай имел доброе, отзывчивое, способное к глубокому сочувствию нуждающимся сердце. Он писал о себе в дневнике: «Нужды материальной я никогда не испытывал. Даже напротив, от пелен до смерти дедушки, то есть до тринадцатилетнего возраста, я жил чуть ли не в роскоши. Кроме того, был любимцем бабушки, да, кажется, и дедушки. Одним словом, мне хорошо жилось. Помню, устраивалась у нас елка на Рождество: детское веселье, конфеты, блеск украшений – все это радовало меня. Но помню хорошо один вечер. Я один около елки. В комнате полумрак, горит лампа, и тень от елки падает на бóльшую половину комнаты. И вот какая мысль у меня в голове: я сыт, одет, родители утешили меня прекрасной елкой, я ем конфеты, в комнате тепло... Но есть, я знаю, такие дети, у которых нет даже необходимого. Об елке и речи быть не может: они полураздеты, просят милостыню на морозе или голодные сидят в холодных подвалах...»
«Помню, что я часто даже в играх, которые любил, чувствовал неудовлетворенность, пустоту. Я не знал, куда мне поступить из гимназии, что выбрать, какую отрасль науки, какой, сообразно с этим, путь жизни. Ничто мне не нравилось так, чтобы я мог отдаться тому, что выбрал. Был у меня переворот в жизни, когда все вокруг было заражено социальными идеями в нашем юношеском кругу. Мне эта маска, которой прикрыто дело диавола, ведущее в пагубу, сначала как бы понравилась, хотя я и не мог ее совместить с верой в Бога, в которой и о которой я ничего не размышлял и не давал отчета, имея скорее превратное понятие о вещах веры, например о монашестве.
Я прежде совсем не давал себе отчета, что такое монашество, потом осуждал всех монахов вообще; потом, за несколько месяцев до приезда в Оптину в первый раз, я начал сомневаться в монашестве – богоугодно ли оно? И сомневался до последнего времени, до самого поступления в скит, и, вероятно, даже по поступлении были сомнения. Теперь, слава Богу, все затихло, и истина доказывается моим собственным опытом, чтением книг и тем, что вижу и слышу. Как благодарить мне Господа? Какого блага сподобил меня Господь! Чем я мог заслужить это? Да, здесь исключительно милость Божия, презревшая всю мою мерзость. Действительно, как я сам мог прийти в скит, не веря в идеал монашества, не имея положительно никакого о нем понятия, осуждая монахов, живя самой самоугодливой жизнью, не желая подчинять свою волю никому из смертных, не молясь ни утром, ни вечером (правда, ходя довольно часто в церковь), читая исключительно светские книги (исключая книгу епископа Феофана перед самым отъездом в Оптину), думая даже о браке? Один ответ: Господь привел...
Замечу еще раз, что церковь (этому я придаю огромное значение – может быть, это была одна из самых главных причин, приведших меня в обитель и к Богу...) лет с двенадцати-тринадцати я не покидал, несмотря ни на что...»
Николай вспоминал о своем религиозном пути: «Первым моим духовником был протоиерей отец Сергий Ляпидевский, уже скончавшийся, вторым – его сын, отец Симеон Сергеевич. Несмотря на религиозность мамы, бабушки, дедушки, папы – они нас редко посылали в церковь, особенно зимой, боясь простуды. А ребенок сам пойти не может. Нас и баловали, и ласкали, но вольничать не позволяли, уйти без спросу мы не смели.
Однажды на исповеди, кажется, отец Симеон Сергеевич сказал мне, что необходимо ходить в церковь по праздникам. «Это – долг перед Богом». Я поразмыслил об этом и согласился. С тех пор я стал часто ходить в церковь, даже в будни, когда был свободен. И это обратилось в привычку. Ходил я также и к вечерним собеседованиям по воскресеньям. Правда, ходил больше из-за «интереса», но все же иногда бывало что-то вроде умиления. Помню, однажды за собеседованием я, стоя на клиросе, слушал проповедь и заключил в конце концов так: «Как бы провел я время дома, не знаю, а здесь все-таки душеполезное услышал».
Услышав однажды о грехе суеверия, я приложил слышанное к жизни и отверг все суеверное – например приметы. Услышав однажды о грехе воззрения на девушек и жен с похотением, я даже... опечалился: это доставляло мне удовольствие. Как быть? Смотреть грешно, а не смотреть – лишить себя удовольствия. И решил я, что смотреть можно, только без похотения. Такой сделкой со своей совестью я как бы успокоился: взяла верх плотская сторона.
Представилось новое искушение: предложили мне учиться танцевать, но танцы назначались как раз во время вечерни. Куда склониться? Помню, был 6-й глас на «Господи, воззвах», мой в то время самый любимый догматик: «Кто Тебе не ублажит...» И туда, и туда хочется. Долго я боролся, долго был в нерешительности, и... о, позор, позор! попрал я совесть и пошел танцевать. Совестно вспомнить! Как враг старается удалить от церкви, если ходишь даже и с равнодушием».
Окончив гимназию, Николай поступил в Московский университет, но проучился недолго. Он вспоминал: «В университете я успел проучиться немногим более полугода... После Рождества мои мысли и стремления к богоугождению начали несколько формулироваться, и я стал посещать университет хотя и ежедневно, но с некоторой целью... под предлогом занятий в университете я уходил утром из дома. Приходил в университет и был там до 9 часов, а с 9 часов отправлялся в Казанский собор к обедне, предварительно заходя по дороге к Иверской, если там народу бывало не очень много. Отслушав литургию, стоя иногда даже всю литургию на коленях, я не спеша отправлялся домой и заходил по дороге в часовню Спасителя и, помолившись там, уже без задержек направлялся домой. Дома я, напившись чаю, садился читать Евангелие, которое и читал более месяца или месяц. Когда Евангелие было прочитано, я начал читать Апостол и «Путь ко спасению» епископа Феофана; читал иногда листочки и брошюрки духовного содержания.
Вечером я начинал писать дневник, потом немного молился и ложился спать. Так проходил день, за ним другой. Я все более и более чувствовал необходимость переменить жизнь, начать жизнь иную и молился об этом, конечно своими словами. Господь услышал мою грешную молитву и непостижимыми судьбами направил меня в Оптину на иноческий путь...»
В феврале 1907 года Николай пожелал сознательно исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин, что и исполнил, исповедавшись иеромонаху Чудова монастыря Серафиму, в первый раз подходя к Таинству исповеди не формально, а сознательно желая примирения с Богом и соединения с Церковью.
Николай поведал о своем намерении поступить в монастырь священнику Петру Сахарову, законоучителю в гимназии. Тот не чувствовал, что может решить этот вопрос самостоятельно, и направил его к своему товарищу по Духовной академии епископу Трифону (Туркестанову). Это было перед Великим постом в 1907 году, в Неделю о блудном сыне. При встрече присутствовала мать Николая, Вера Лаврентьевна. Владыка сказал ей о сыновьях, Николае и Иване, возжелавших поступить в монастырь: «Не беспокойтесь, они увидят там только хорошее, и это останется у них на всю жизнь».
Вечером 23 февраля братья выехали в Оптину, «не имея о ней, – как писал Николай, – ни малейшего представления. Недели за две до того времени я не знал, что Оптина существует». 24 февраля, в день обретения главы святого Иоанна Предтечи, они впервые увидели Оптину. Побыв некоторое время в монастыре, Николай захотел остаться здесь, но все монахи, которые постарше, советовали пожить еще в миру, и отец настоятель также не захотел принять. Однако на прощание предложил зайти к нему, дал общие правила молитвы и жизни и, благословив иконой Божией Матери «Споручница грешных», сказал: «Благословляю вам, Николай Митрофанович, на радость родных и знакомых и на пользу души вашей».
Восемь месяцев после этого Николай прожил в миру, по благословению епископа Трифона окормляясь у игумена Богоявленского монастыря Ионы; в монастыре он пребывал иногда до позднего вечера, когда уже и двери запирались. Отец Иона настаивал, чтобы юноша скорее уходил в монастырь.
5 декабря 1907 года Николай и его брат Иван приехали в Оптину; 7 декабря, в день памяти святителя Амвросия Медиоланского, когда именинником бывал старец Амвросий, скитоначальник игумен Варсонофий благословил их переезжать в Оптину пустынь; 9 декабря, в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», они выехали из Оптиной в Москву для окончательного устроения дел в миру. 23 декабря они были уже в Оптиной, а 24го – поселились в келье в Предтеченском скиту.
Наставляя Николая перед принятием в скит, скитоначальник отец Варсонофий в назидание рассказал ему, какую он имел беседу при своем поступлении в скит со старцем Анатолием (Зерцаловым), которому поведал тогда, что хотел бы жить поуединеннее, в затворе.
«– Что же, и в баню ходить не будете? – спросил отец Анатолий.
– Конечно.
– Да, вот я про то-то и говорю, что в баню ходить не будете.
– Вы, Батюшка, – говорю я, – что-то под «баней» разумеете иное?
– Да, пустыня, затвор не очищают нас. Я в пустыне со своими страстями могу жить – и не грешить по видимому. Нам нельзя там познать всю немощь свою, свои пороки, раздражение, осуждение, злобу и другое. А здесь нас чистят: как начнут «шпиговать», только держись, – мы и будем познавать свои немощи и смиряться. Здесь без вашей просьбы начнут вас чистить. Когда только поступаешь, все кажутся ангелами, а потом начнешь видеть пороки, и чем дальше, тем больше, – с этим надо бороться».
«Духа надо держаться. Дух животворит, буква умерщвляет. Если видеть в монашестве одну форму, то жить не только тяжело, но ужасно. Держитесь духа. Смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие, нигилизм, мертвечина, а все потому, что только одна зубрежка, без чувства и смысла. Революция в России произошла из семинарии. Семинаристу странно, непонятно пойти в церковь одному, стать в сторонке, поплакать, умилиться, – ему это дико. С гимназистом такая вещь возможна, но не с семинаристом. Буква убивает», – добавил отец Варсонофий.
29 января 1908 года, в день, когда празднуется память священномученика Игнатия Богоносца, Николая и его брата Ивана одели в послушническую одежду. Вручая им четки, игумен Варсонофий сказал: «Вот вам оружие, нещадно бейте им невидимых врагов. Прежде всего имейте всегда страх Божий, без него вы ничего не достигнете. Теперь для вас начинается новая жизнь. Хоть вы и жили в скиту, да все было не то. Теперь везде идет разговор у бесов: «Были почти наши, теперь пришли сюда спасаться – как это можно?» Но не бойтесь».
Давая наставление и благопожелания послушнику Николаю, отец Варсонофий сказал: «Вообще постарайтесь еще при моей жизни утвердиться здесь. А то, что будет после меня, неизвестно. Я молю Бога, чтобы мне протянуть еще полгода или год, чтобы вас укрепить».
Николай поведал старцу смущающие его мысли, будто современное монашество уклонилось от своих идеалов. Старец ответил на это: «Да, да, уклонилось. Однако диаволу и это монашество не очень нравится, коли он так восстает против современного монашества. Этим монашеством держится весь мир. Когда монашества не будет, то настанет Страшный Суд».
Милостью Божией Николай сразу оторвался от мира. У него не пошло в ход и не стало развиваться мирское умонастроение, как бывает, когда новопоступивший послушник начинает интересоваться происходящими в монастыре внешними событиями, сначала слухом, а потом уже внутренне, в помыслах обсуждать, кто каков и какой жизнью живет, и, будучи еще не укреплен на поприще мысленной брани, побеждается натиском помыслов, которые в конце концов обращаются в бурю возрастающими в сердце страстями. Для послушника – это гибель, а для монастыря – искушение, так как такие умонастроения порождают и общие монастырские нестроения. Из ничего возникают, а потом словно буря какая пронесется над «тихой» обителью. Но Николай знал только свою келью и старца Варсонофия.
В скиту Николай нес послушание в саду, был помощником библиотекаря, но основным его послушанием вскоре стало секретарское, у скитоначальника игумена Варсонофия. Отцу Варсонофию полюбился тихий послушник, и он сказал ему: «С первого же раза я расположился к вам и верую, что сохранится это расположение на все время, которое мне осталось жить... Оставайтесь здесь монахом до конца своей жизни. А основание монашеской жизни – смирение. Есть смирение – всё есть, а нет смирения – ничего нет. Можно даже без всяких дел одним смирением спастись».
С самого начала жизни в Оптиной пустыни Николай по благословению старца Варсонофия взял себе за правило вести дневник. 17 марта 1908 года он записал: «Свободного времени очень мало, так что все время теперь, с начала поста, я прохожу послушание помощника библиотекаря, а в библиотеке сейчас очень много дела.
Вот как Господь подкрепляет меня, недостойного: совершенно не тягощусь постом и даже лучшей пищи не желаю; бывают помыслы о прежнем, да это так, мимолетно, даже не беспокоит... Стараюсь слушать службу, хотя это далеко не всегда удается, обыкновенно бываю очень рассеян за службой.
Прежде я ругал монахов, а теперь, когда сам живу в монастыре, вижу, как трудно быть истинным монахом. И живу я как в миру, ничуть не изменился: все страсти, все пороки, грехи, остался таким же развращенным, страстным человеком – только живу в келии, в скиту, а не в миру. И не стал сразу ангелом, чего я требовал прежде от всякого монаха без разбора, молодой ли он или старый и сколько живет в монастыре, и не желал ничего принимать в соображение. Теперь я начинаю понимать, что практическое знание, собственно, только и имеет смысл. Очень легко разглагольствовать и очень трудно «дело делать».
А приблизительно через год он записал: «Все мои познания приобретены в скиту, вся формировка в нечто определенное моих убеждений и понятий произошла здесь, в скиту. Здесь, в скиту, я приобрел более, чем за всю мою жизнь в миру, более, чем в гимназии и университете. Не ошибусь, пожалуй, если скажу, что там я почти ничего не получил, хотя в миру от рождения прожил 19 лет, а в скиту не живу еще и года».
Достигнув сам значительных духовных высот, отец Варсонофий чувствовал себя одиноким даже и в единомысленном монашеском обществе, тем более что ему пришлось жить в то время, когда в Оптиной начались нестроения и распри, и потому беседы со смиренно и искренно настроенным послушником, жаждавшим научения и спасения, явились и для самого старца большим утешением; несмотря на различие в возрасте и опыте, у них были одинаковые духовные устремления, и между ними сложились близкие, почти дружеские отношения.
30 января 1909 года Николай записал в дневнике: «Батюшка во время разговора первый раз назвал меня своим сотаинником. Я этого не ожидал и не знаю, чем мог это заслужить. Спаси, Господи, Батюшку. Я все более и более начинаю видеть, что Батюшка – великий старец. И, к моему сожалению, Батюшка все чаще и чаще говорит о своей смерти, что дни его «изочтени суть»...»
Подходило время, когда Николая могли призвать на военную службу, и он спросил отца Варсонофия, «можно ли молиться, чтобы Господь избавил от военной службы или нет? Батюшка отвечал, что нельзя. «Это надо всецело предоставить воле Божией, ибо прежде всего – это законно. И потом, мы не знаем, будет ли для нас полезно это. Молиться об этом равносильно тому, чтобы молиться об избавлении от послушания. Нет, уж лучше предоставим это воле Божией».
Во время медосмотра призывников Николай из-за расширения вен на левой ноге был зачислен в ополчение второго разряда, то есть в число тех, кто не служит срочную службу. Вернувшись после медицинской комиссии в скит, он пошел поблагодарить о дарованной ему еще и на будущее время жизни в скиту на могилки старцев; поблагодарив старцев, он встретил отца Варсонофия и сказал: «Благословите. Не приняли меня». Батюшка обрадовался, даже несколько раз переспросил. Благословил... Затем обратился к востоку и начал молиться... «Велика милость Твоя, Господи!».
Надвигалась новая эпоха, в которой все яснее стало ощущаться присутствие зловещего духа антихриста. Во многих охладевала любовь, которая в иных душах едва уже теплилась, подавляясь и угнетаясь плотскими страстями. Сердца стали узки и не вмещали других с их болью и скорбями, и люди стали отдаляться друг от друга, и множество даже и хорошего настроя людей оказывались в одиночестве. Казалось, Дух Божий отходит от мира. Если раньше строительство церковное, «составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получало приращение для созидания самого себя в любви» [Еф. 4, 16], то теперь и оно почти замерло с отсутствием внутреннего духовного роста каждого. Из церковного общества стал исчезать дух самопожертвования и самоотверженности. Мало кто уже хотел быть приглашенным пройти с кем-то поприще, чтобы затем идти с ним и два. Изменялось само представление о смысле жизни и важности осознания ее смысла, содержание жизни стало уходить на периферию – во внешние дела, и потому в сердцах самих людей все утолщалась стена между этой временной жизнью и вечной, люди как бы теряли вход во врата вечной жизни, переставали ориентироваться в духовных вопросах и все более становились лукавыми чадами века сего, отчего сами становились глубоко несчастны и оттого часто мстительны.
«Я совершенно один... а силы слабеют... – пожаловался как-то старец послушнику. – Мы, я и Батюшка... все вместе делали, друг друга утешали в скорбях. Приду, да и скажу: «Батюшка... тяжело что-то». – «Ну что там, тяжело? Теперь все ничего. А вот придут дни...» Да, а теперь-то они и пришли, – монахов много, много хороших, а утешить некому. Теперь я понял, что значит: «Придут дни»...»
«19 февраля Батюшка сказал мне, – записал Николай в дневнике: «Я вам, брат Николай, не раз уже говорил и еще скажу: приходит мне мысль все бросить, уйти в какую-нибудь келию. Страшно становится жить, брат Николай, страшно. Только боюсь сам уйти, а посоветоваться не с кем. Если бы жив был отец Варнава, то поехал бы к нему, но и его уже нет. А сам – боюсь. Боюсь, как боится часовой уйти с поста, – расстреляют. В таком положении начинаешь понимать слова пророка Давида: «Спаси мя, Господи!..» Если взять только эту часть фразы, то само собой разумеется, что никто не хочет погибели и не говорит: «Погуби меня, Господи». Все и всегда могут сказать: «Спаси мя, Господи». Но он прибавляет далее: «Яко оскуде преподобный» [Пс. 11, 1]. Не к кому обратиться, – Господи, спаси мя. Только теперь мне становится понятным, отчего бежали святые отцы от мира, именно бежали... Хотелось бы и мне убежать в пустыню...»
Незадолго до этого, как-то вечером, Батюшка сам, не по моему вопросу, а сам начал говорить: «Прежде я не понимал, что делается в миру, а теперь, когда приходится мне сталкиваться с ним, он поражает меня своей крайней сложностью и безотрадностью. Правда, бывают радости, но они мимолетны, мгновенны. Да и какие это радости? Самой низшей пробы... А у нас – блаженство, даже немножко как бы похоже на рай. Бывают, конечно, и скорби, но это временно... Хорошо, кто заботится о внутренней, созерцательной жизни, ибо она даст ему все».
Отец Варсонофий говорил послушнику Николаю: «Всякому человеку нужно претерпеть время искушений и борьбы – тяжелое болезненное состояние. Про эти муки говорится в псалме: «Объяша болезни яко раждающия» [Пс. 47, 7], – и далее: «...и изведе мя на широту» [Пс. 17, 20]... Так и всякий человек, рождаясь духовно в новую жизнь, испытывает болезнь, пока еще не вышел на широту. Кто не испытал этих болезней, рождающих в миру, до монастыря, то ему необходимо испытать их в монастыре. И вам это предстоит, ибо вы не испытали этого в миру...
Вот видите, через какие горнила приходится проходить монаху на иноческом пути с начала до конца. И вот тут-то и нужна молитва Иисусова, и без нее ни одна душа не выдержит. Пока я жив, сколько уж продержит меня Господь, – вам ничего, а когда меня не будет, вы будете предоставлены самому себе. Поэтому теперь запасайтесь терпением заранее. А созерцанием всего этого не смущайтесь и не унывайте. Раскройте преподобного Феодора Студита и увидите, что все это и тогда было. А теперь научайтесь терпению».
«Неоднократно приходилось... слышать от Батюшки, – записал Николай в дневнике, – как он говорил и мне и другим: «Лицемерие, двойственность, лукавство вообще погрешительны, а на монашеском пути это – прямая погибель. Надо твердо идти по пути, никуда не сворачивать, не служить и нашим и вашим...».
Часто отец Варсонофий беседовал с послушником Николаем о молитве Иисусовой, справедливо полагая, что она основное и самое надежное средство борьбы с врагом рода человеческого, и однажды спросил: «Какой признак Промысла Божия о человеке?» Николай не сумел ответить, и отец Варсонофий сказал: «Непрестанные скорби, посылаемые Богом человеку, суть признаки особого Божия промышления о человеке. Смысл скорбей многоразличен: они посылаются для пресечения зла, или для вразумления, или для большей славы...» Затем он стал говорить о молитве: «Ее начало – тесный путь. Но приобретение внутренней молитвы необходимо... Внешняя умная молитва недостаточна, ибо она бывает и у человека, в котором присутствуют страсти. Одна умная недостаточна, а внутреннюю получают весьма немногие. Вот некоторые и говорят: «Какой же смысл творить молитву? Какая польза?» Великая! Ибо Господь, давая молитву молящемуся, дает человеку молитву или перед самой смертью, или даже после смерти. Только не надо ее оставлять».
Старец Варсонофий хотел, чтобы осознанием важности и значимости молитвы Иисусовой проникся и послушник; беседуя с ним, старец сказал: «Да, я занимался молитвой Иисусовой; дело шло, молитва начинала у меня разгораться... Но настоятельство у меня отняло ее... Молитва чуть дышит... Вот я часто задаю себе этот вопрос: «Что – выиграю я на этом своем посту или проиграю?» Да, скажу я вам, враг вам все даст, что хотите: иеромонашество, власть, настоятельство, даже патриаршество, – но только не даст молитвы Иисусовой. Сколь она ему ненавистна! Все даст, только не ее...»
Как-то Николай записал в дневнике: «Вчера Батюшка говорил, что до страшных времен доживем мы, но что благодать Божия покроет нас. Это Батюшка сказал под впечатлением разговора о новейших изобретениях, которые, имея как бы и добрые стороны, всегда оказываются вредными более, нежели полезными, и даже, можно сказать, суть просто зло».
В Великую Пятницу 16 апреля 1910 года вместе с другими послушниками Николай был пострижен в рясофор. После пострига все пошли в келью к отцу Варсонофию, и он сказал новопостриженным: «Прежде я говорил вам и теперь повторяю: смирение – всё. Есть смирение – всё есть, нет смирения – ничего нет. Вы получили рясофор. Это не есть какое-либо повышение, как например в миру, когда дают повышение, назначая в офицерский чин и прочее. И там получивший считает своим долгом гордиться своим повышением, а у нас не так. На монашеском знамени написаны слова: «Кто хочет быть большим, да будет всем слуга» [Мф. 20, 26; Мк. 9, 35; 10, 43]. Смиряйтесь и смиряйтесь... Теперь вас более будет утешать благодать Божия, но и враг будет озлоблять».
В феврале 1912 года смута в Оптиной и попытки светского общества убрать игумена Варсонофия из скита завершились указом Синода о назначении его настоятелем расположенного вблизи города Коломны Старо-Голутвина монастыря с возведением в сан архимандрита. Последовавший за этим протест братии был оставлен без внимания. Через год старец Варсонофий скончался.
24 мая 1915 года Николай был пострижен в мантию и наречен Никоном в честь мученика Никона; 10 апреля 1916 года он был хиротонисан во иеродиакона, а 3 ноября 1917 года – во иеромонаха.
В 1917 году к власти пришли безбожники, и началось время беспощадных гонений на Русскую Православную Церковь. «В феврале 1918 года небольшой отряд красноармейцев прибыл в Оптину пустынь, грубо и бесцеремонно солдаты произвели осмотр монастыря и скита. Тогда же была сделана опись всего церковного имущества обители, включая богослужебные сосуды, иконы... 26 июня 1918 года был конфискован монастырский дом и другие постройки при мельнице на реке Другузне. 23 июля 1918 года иеромонах Никон (Беляев), по благословению настоятеля проводивший переговоры с представителями советской власти, доложил епископу Феофану (Тулякову) о планируемой конфискации всех без исключения лошадей и что цель конфискации вовсе не нужды армии, как об этом заявляется, а расформирование монастыря. К 10 августа было решено удалить из Оптиной всех монахов. В монастырской гостинице на двери одной из комнат уже висела вывеска «Козельский Уездный Военный Комиссар». Среди козельских комиссаров обсуждался вопрос о том, что нужно предложить всем монахам остричь волосы и поступить на светскую службу. 5 августа 1918 года уездный Комиссариат Социального Обеспечения потребовал от монастыря предоставить два корпуса для размещения в них детского приюта и богадельни.
Чиновники из учреждений советской власти, расположенные к обители, в частных разговорах неоднократно советовали братии для спасения монастыря и его хозяйства зарегистрироваться в качестве трудовой общины или артели».
В 1919 году Оптинский монастырь был преобразован в племенное хозяйство, которое возглавил один из монастырских послушников. Новообразованное хозяйство пользовалось по договору всеми постройками монастыря, кроме хибарок старцев и библиотеки, после его ликвидации все монастырские постройки поступили в ведение музея. При музее был устроен кожевенный завод и деревообрабатывающие мастерские, в которых трудилось около тридцати монахов и послушников. В мае 1919 года заведующим музеем был временно назначен иеромонах Никон.
30 сентября 1919 года власти арестовали часть братии Оптиной пустыни и священников, служивших в храмах Козельского уезда, среди них был арестован и отец Никон.
Настоятель Оптиной пустыни архимандрит Исаакий писал 3 октября епархиальному архиерею: «...местные власти произвели обыск в помещениях Преосвященного епископа Михея, казначея иеромонаха Пантелеимона и письмоводителя иеромонаха Никона. После обыска названные лица были арестованы и отправлены в козельскую тюрьму, а помещения их на другой день были запечатаны теми же властями...»
Описывая условия их содержания, настоятель писал 23 октября: «...заключенным в козельскую тюрьму Преосвященному епископу Михею и иеромонахам Пантелеимону и Никону ежедневно доставляется пища и другое необходимое, чего они попросят, в том числе и книги для чтения. Их навещают близкие, а однажды по их просьбе посылался в тюрьму иеромонах со Святыми Дарами, и заключенные приобщались Святых Таин...» После непродолжительного заключения в козельской тюрьме власти 17 ноября того же года освободили узников.
13 марта 1920 года командир 10-й бригады вооруженной охраны Асенаймер и помощник губернского военного комиссара Алмазов арестовали группу священнослужителей, монахов и мирян, имевших отношение к Оптиной пустыни, и среди них отца Никона. Было постановлено: «Во избежание побега... заключить в губернскую тюрьму... до выяснения личностей и состава преступления».
Личность отца Никона была вскоре выяснена, но никаких доказательств его контрреволюционной деятельности найдено не было, и 17 марта того же года Калужская Губчека распорядилась освободить его.
В 1920 году в музей прибыла ликвидационная комиссия, которая составила акт о передаче всего имущества монастыря Главмузею. В июле того же года часть церковного имущества была передана религиозной общине. В это время в Оптиной из насельников монастыря организовалось садово-огородное товарищество.
В 1922 году ликвидационная комиссия удалила из монастыря бóльшую часть монахов, и с этого времени Оптина пустынь поступила в особое ведение ОГПУ: туда был направлен его представитель для постоянного наблюдения, у него хранились ключи от всех монастырских помещений, кроме церквей и музея.
9 марта 1920 года скончался скитоначальник схиигумен Феодосий, 30 июля 1922 года скончался иеросхимонах Анатолий (Потапов), зимой того же года был арестован старец Нектарий, который благословил своих духовных детей обращаться к иеромонаху Никону; с этого времени отец Никон стал принимать на исповедь народ, продолжавший по-прежнему ехать в Оптину за духовным окормлением.
Осенью 1922 года отец Никон писал матери: «Христос посреде нас, дорогая мамаша. Мира и радования о Господе Иисусе усердно тебе желаю и прошу твоих святых молитв и родительского благословения.
О себе что писать мне? Я жив и здоров, нужд никаких особых не имею, необходимое все получаю, тружусь несколько в письмоводстве, много занят бываю различными делами по обители или, вернее, делами, касающимися вообще нашего общего жития, пою на клиросе и, наконец, служу, предстоя престолу Божию во святом алтаре.
Что касается моей внутренней жизни и по келье, и по душе, то это далеко не всем можно знать. Келия моя в длину имеет пять аршин, в ширину три аршина шесть вершков в одно окно. Келия для меня дороже всяких пышных домов и чертогов.
Что касается условий нашего общего жития, то это дело сложное и вместе очень простое: сложное, ибо трудно изложить на бумаге все, что сейчас представляет бывший монастырь, и все, что мы переживаем и предпринимаем, – простое, ибо, «аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие», по псаломскому слову (Пс. 126, 1). Да, нужно принимать меры возможные, подсказываемые здравым разумом и не противные духу христианского и иноческого жития, но, принимая их, успеха ожидать должно всецело от руки Господней.
Гордость человеческая говорит: мы сделаем, мы достигнем, – и начинаем строить башню Вавилонскую, требуем от Бога отчета в Его действиях, желаем быть распорядителями вселенной, мечтаем о заоблачных престолах, – но никто и ничто не повинуется ей, и бессилие человека доказывается со всею очевидностью горьким опытом. Наблюдая опыт сей из истории и древних, давно минувших дней, и современных, прихожу к заключению, что непостижимы для нас пути Промысла Божия, не можем мы их понять, а потому необходимо со всем смирением предаваться воле Божией.
Затем второе: никто и ничто не может повредить человеку, если сам себе он не повредит; напротив, кто не уклоняется от греха, тому и тысяча спасительных средств не помогут. Следовательно, единственное зло есть грех: Иуда пал, находясь со Спасителем, а праведный Лот спасся, живя в Содоме. Эти и подобные этим мысли приходят мне, когда поучаюсь я в чтении святых отцов и когда гляжу умственно на окружающее.
Что будет? Как будет? Когда будет? Если случится то и то, куда приклониться? Если совершится то и то, где найти подкрепление и утешение духовное? О, Господи, Господи! И недоумение лютое объемлет душу, когда хочешь своим умом все предусмотреть, проникнуть в тайну грядущего, не известного нам, но почему-то страшного. Изнемогает ум: планы его, средства, изобретаемые им, – детская мечта, приятный сон. Проснулся человек – и все исчезло, сталкиваемое суровой действительностью, и все планы рушатся. Где же надежда? Надежда в Боге.
Господь – упование мое и прибежище мое. В предании и себя и всего воле Божией обретаю мир душе моей. Если я предаю себя воле Божией, то воля Божия и будет со мной совершаться, а она всегда благая и совершенная. Если я Божий, то Господь меня и защитит, и утешит. Если для пользы моей пошлется мне какое искушение – благословен Господь, строящий мое спасение. Даже при наплыве скорбей силен Господь подать утешение великое и преславное... Так я мыслю, так я чувствую, так наблюдаю и так верую.
Из этого не подумай, что я много пережил скорбей и испытаний. Нет, мне кажется, что я еще не видал скорбей. Если и бывали со мной переживания, которые по поверхностному взгляду на них по всей видимости казались чем-то прискорбным, то они не причиняли мне сильной сердечной боли, не причиняли скорби, а потому я не решаюсь назвать их скорбями. Но я не закрываю глаза на совершающееся и на грядущее, дабы уготовить душу свою во искушение, дабы можно было мне сказать псаломскими словами: «Уготовихся и не смутихся».
Я сообщал тебе, что у нас было следствие, ревизовали дела нашего Товарищества. Это следствие не кончено еще, суда еще не было. Когда будет суд и чем он кончится – Бог весть. Но, несомненно, без воли Божией ни со мной в частности, ни вообще с нами ничего совершиться не может, и потому я спокоен. А когда на душе спокойно, тогда чего же еще искать?
Сейчас я пришел от всенощной и заканчиваю письмо, которое начал еще перед всенощной. Господи, какое счастье. Какие чудные глаголы вещаются нам в храме. Мир и тишина. Дух святыни ощутительно чувствуется в храме. Кончается служба Божия, все идут в дома свои. Выхожу из храма и я.
Чудная ночь, легкий морозец. Луна серебряным светом обливает наш тихий уголок. Иду на могилки почивших старцев, поклоняюсь им, прошу их молитвенной помощи, а им прошу у Господа вечного блаженства на небе. Могилки эти много вещают нашему уму и сердцу, от этих холод
Подробнее...
Священномученик Василий Милицын
Священномученик Василий – Василий Степанович Милицын – родился в 1861 году. Окончив Камышловское уездное училище, он был в 1887 году рукоположен во диакона и служил в храме в Воскресенской слободе Челябинского уезда Оренбургской губернии. 8 февраля 1894 года диакон Василий был переведен в Спасо-Преображенский собор в городе Шадринске. В 1897 году он был рукоположен во священника и служил в Преображенском храме в Верхне-Уфалейском заводе Екатеринбургской епархии, а затем в храме села Кунгурское. 9 августа 1907 года отец Василий был назначен во Входо-Иерусалимский храм Нижне-Тагильского завода Верхотурского уезда, а 7 октября 1909 года в Никольский храм села Верх-Ключевское Камышловского уезда...
Священномученик Василий – Василий Степанович Милицын – родился в 1861 году. Окончив Камышловское уездное училище, он был в 1887 году рукоположен во диакона и служил в храме в Воскресенской слободе Челябинского уезда Оренбургской губернии. 8 февраля 1894 года диакон Василий был переведен в Спасо-Преображенский собор в городе Шадринске. В 1897 году он был рукоположен во священника и служил в Преображенском храме в Верхне-Уфалейском заводе Екатеринбургской епархии, а затем в храме села Кунгурское. 9 августа 1907 года отец Василий был назначен во Входо-Иерусалимский храм Нижне-Тагильского завода Верхотурского уезда, а 7 октября 1909 года в Никольский храм села Верх-Ключевское Камышловского уезда. В 1915 году он служил в Спасо-Преображенской церкви села Алексеевское того же уезда. Священник Василий Милицын был убит безбожниками-большевиками 25 июня 1918 года в городе Камышлове.
Подробнее...
Священномученик Василий Протопопов
Священномученик Василий родился в 1886 году в селе Извольском Юхновского уезда Смоленской губернии в семье псаломщика Сергия Протопопова. Окончив Смоленскую Духовную семинарию, Василий Сергеевич работал учителем в школе в селе Торбеево Сычевского уезда*. В 1915 году он был рукоположен во священника ко храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новопокров Гжатского уезда Смоленской губернии**.
В 1920-х годах отец Василий был предан суду за то, что обратился к прихожанам с просьбой о помощи в выплате налогов за пользование храмом, и приговорен к двумстам р...
Священномученик Василий родился в 1886 году в селе Извольском Юхновского уезда Смоленской губернии в семье псаломщика Сергия Протопопова. Окончив Смоленскую Духовную семинарию, Василий Сергеевич работал учителем в школе в селе Торбеево Сычевского уезда*. В 1915 году он был рукоположен во священника ко храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новопокров Гжатского уезда Смоленской губернии**.
В 1920-х годах отец Василий был предан суду за то, что обратился к прихожанам с просьбой о помощи в выплате налогов за пользование храмом, и приговорен к двумстам рублям штрафа. В 1931 году он был арестован по обвинению в неуплате налогов и приговорен к восьми месяцам исправительно-трудовых работ. Священник подал жалобу на неправый приговор, суд его оправдал, и он вернулся к служению в храме.
Наступил 1937 год; участь большинства священников того времени не миновала и отца Василия. 20 ноября 1937 года заведующий избой-читальней в соседнем с Новопокровом селе Острицы отправил в районный отдел НКВД заявление, прося «принять меры к служителю церковного культа Новопокровской церкви Василию Сергеевичу Протопопову, так как в беседе... в сентябре 1937 года высказывал контрреволюционные взгляды по поводу закрытия Острицкой церкви... Мне неоднократно приходилось слышать от школьников и молодежи Острицкого сельсовета... что поп их останавливает и уговаривает ходить в церковь молиться Богу, а избу-читальню называет антихристовым сборищем».
На следующий день следователь допросил избача-комсомольца, который сказал: «Василий Сергеевич Протопопов, ввиду того что у нас закрыта в селе Острицы церковь, взял в свой приход и наш Острицкий сельсовет и то и дело ходит по деревням и ведет контрреволюционную агитацию, чтобы ходили в церковь и молились Богу. Об этом мне неоднократно приходилось слышать от молодежи и от школьников, приходящих в избу-читальню, которые мне, как заведующему избой-читальней, заявляли: «Вот мы шли в избу-читальню, и с нами встретился поп Новопокровской церкви... и говорит нам: «Куда вы, ребята, идете?» А когда ему сказали, что идем в избу-читальню, то после этого Протопопов, как мне передавали школьники, говорил: «Вы еще младенцы, не ходите в антихристово сборище, не надо вам согрешать. Вам надо учиться Божественным молитвам. Вам надо ходить в церковь, молиться Богу...» Кроме этого, Протопопов взял под свое влияние учительницу, имеющую высшее образование... и она в настоящее время бросила работать в школе... и регулярно посещает Новопокровскую церковь, где поет как певчая».
В справке на арест священника сотрудники НКВД написали: «За последнее время Протопопов проявляет особенную активность среди верующих. По его предложению в селениях проводятся тайные сборища верующих по сбору средств на украшение храма, на ремонт церкви и сбор продуктов для него».
24 ноября 1937 года отец Василий был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве и через несколько дней допрошен.
– Следствием установлено, что вы среди населения вели антисоветскую деятельность, распространяли контрреволюционную клевету против советской власти. Вы подтверждаете эти данные следствия? – спросил его следователь.
– Антисоветской деятельности и клеветы против советской власти я не высказывал. Это ложные данные, – ответил священник.
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Василия к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Священник Василий Протопопов скончался в Темниковском лагере в Мордовии 8 июля 1940 года и был погребен в безвестной могиле.
Подробнее...